Трактовки
понятия этнофутуризма в Эстонии
Отть и Андрес Хейнапуу
Перевод
– Валерий Калабугин
Возникшее
в Эстонии движение этнофутуризма, выйдя за
ее пределы и приобретя популярность у
северных народов, обрело новые черты и
получило новые интерпретации, о которых в
Эстонии, по сути, ничего не известно. Вместе
с тем эстонские критики уже приступили к
толкованию этнофутуризма у других народов (например,
в перформансах Юрия Кучырана, в искусстве
восточных финно-угров), в то время как в
остальном мире представление о том, как
понимают этнофутуризм в Эстонии, весьма
неполно. На английском есть работы Кари
Салламаа, на русском – работы удмуртских
исследователей и художников (Виктор
Шибанов, ... и др.), а эстонцы могут предложить
только т.н. манифест этнофутуризма,
составленный на английском, финском и
русском языках, и две статьи Пирет Вийрес и
недавнее исследование Хейе Трейер – на
английском. Этот пробел мы постараемся
заполнить настоящим кратким обзором. Не
ставя задачей дать исчерпывающий обзор
всех материалов на эстонском языке, мы
укажем лишь на самые, по нашему мнению,
существенные моменты из работ, вне Эстонии
пока неизвестных. Кроме того, мы попытаемся
провести параллели с другими финно-угорскими
народами.
Треугольник
этнофутуризма
Рейна Таагепера
Самую
широкую трактовку этнофутуризма предложил
профессор Рейн Таагепера на III конференции
по этнофутуризму в Тарту (1999). Его модель
изображает различные отношения к
традиционной культуре или ориентации в
культуре.
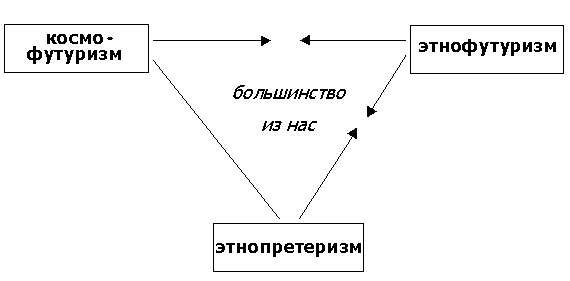
Космофутуризм
– это ориентация на создание “прекрасного
нового мира”, которому надлежит быть
постнациональным и космополитическим –
или же наднациональным. Как типичный пример
таких идеологий Таагепера приводит
пропагандировавшуюся в Советском Союзе
идею создания постнационального “советского
народа”, связанную с верой в прогресс и
рассматривавшую национальности как
пережитки прошлого, которым суждено
исчезнуть. Подход к культуре здесь
динамичный, но не национальный, а развитие
видится в направлении общего для всех и
единственно возможного будущего.
Космофутуризм предлагает небольшим
народам перспективу исчезновения с
неизбежным растворением в более крупных и
рисует такую картину будущего, где
национальное многообразие сократится и
национальные, т.е. этнические черты
постепенно исчезнут. Постнациональное или
великодержавное будущее оценивается
положительно.
Этнопретеризм
– это ориентация на этническое прошлое.
Положительная оценка здесь дается прошлому,
подчеркивается важность чистоты
национальной культуры, проявляется
нетерпимость ко всему новому, т.е. чужому. По
сути, национальная культура
отождествляется с произвольно взятым
статичным отрезком ее истории, который в
ходе развития культуры неизбежно удаляется
в прошлое, – а потому заимствование чужой
духовной культуры вместе с чужой
материальной культурой становится
неизбежным. Такая ориентация способствует
маргинализации национальной культуры и, в
конце концов, ее угасанию.
Этнофутуризм
– это взгляд, согласно которому и у
малочисленных народов есть возможности
сохранять и развивать свою национальную
самобытность. Ориентация здесь – на
будущее, национальная культура
рассматривается как динамичная и
меняющаяся во времени. Отвергается идея о
том, что заимствование элементов чужой
материальной культуры неизбежно должно
сопровождаться перенятием чужой духовной
культуры. Сохранение этнического
многообразия считается вполне возможным.
При
этом Таагепера подчеркивает, что
этнофутуризм находится в противоречии как
с космофутуризмом, так и с этнопретеризмом
– но последние друг с другом не
соприкасаются: этнопретеристов не
интересует будущее, а космофутуристам
безразлична национальная культура. Обе эти
ориентации, по существу, содействуют
языковой и культурной ассимиляции.
Таагепера
признаёт, что три предложенных им понятия
описывают лишь идеализированные типы и
общие ориентации – которые в конкретных
культурных ситуациях проявляются в
смешанных и промежуточных формах.
Эстонская
поэзия в 1990-е годы: этнофутуризм versus
этносимволизм
В
узком смысле этнофутуризм можно
рассматривать как совокупность
этнофутуристических текстов (литературных,
изобразительных, культурных), схожих по
творческому методу, или же сам этот метод;
именно такое определение предложила в 1996 г.
Пирет Вийрес: “Этнофутуризм – это слияние
свойственного национальному духу
архаического, доисторического и
этнического материала с современной,
подчас даже футуристической формой, либо,
напротив, слияние архаической формы (например,
аллитерационной песни) с современным
мировосприятием. Этнофутуризм можно слить
и с сюрреализмом, но он гораздо более
националистичен [...] в подчеркивании
национальных различий”.
Этнофутуристическим текстам свойственны
переосмысление исторического наследия с
учетом современных культурных условий,
реконтекстуализация еще сохранившихся, но
считающихся угасающими явлений своей
культуры в современную культуру,
возрождение забытого наследия,
реконструкция (на основе письменных или
иных источников), перенос явлений архаичной
культуры (таких, как аллитерационная песня
и национальный орнамент) в новые
художественные сферы, избегая при этом
искажения сущности их поэтики.
Каяр
Пруул предлагает рассматривать описанный
выше этнофутуристский творческий метод в
дихотомии с этносимволистским (см. Пруул,
1995). До того как начался процесс
восстановления независимости, указывает он,
основным методом в эстонской поэзии был
этносимволизм – своеобразное поэтическое
сопротивление оккупации и попыткам
ассимиляции. Этносимволистская поэзия (Хандо
Руннель и др.) повторяла уже износившиеся
знаки, выполняя важную мнемотехническую и
мобилизующую функцию. “Характерно,
например, что тексты песен Юри Леэсмента,
написанные в горячее лето 1988 года, не «оригинальны»,
а построены на сознательном цитировании,
парафразировании, коллаже песенной
классики периода национального
возрождения XIX века”. Такая трактовка
открывает путь для иного понимания
этнофутуризма: хотя Пирет Вийрес видит в
нем лишь “провинциальный и периферийный
вариант постмодернизма”, в
действительности он может представлять
собою способ преодоления постмодернизма.
Приемы, которые Пруул относит к атрибутике
этносимволизма, – коллаж, пастиш, цитаты –
характерны именно для постмодернизма.
Сходную мысль, хотя и из других соображений,
высказал позднее и Виктор Шибанов (2001).
В
этом смысле к этносимволизму можно отнести
и использование явлений подчеркнуто
знакового характера, уже вышедших из
употребления. Так, ношение национальных
одежд на певческом празднике указывает на
национальный настрой, хотя для
подавляющего большинства эстонцев
традиция их изготовления и ношения ныне
умерла: одежда уже не обязательно связана с
той местностью, откуда человек родом, ее
детали утратили свое значение, ее не умеют
правильно носить. У других финно-угров к
этносимволизму можно отнести обычай начать
выступление приветствием на родном языке, а
потом плавно перейти на язык большинства (русский,
латышский, финский, шведский). Выступающий
тем самым превращает весь свой родной язык
попросту в символ, лишенный практической
функции. И не играет роли, владеет или нет
выступающий своим родным языком; возможно
даже, что большинство аудитории и в самом
деле владеет языком, который используется
лишь как этнический символ. Этносимволизм в
отношении к своему языку можно подметить и
у многих ливов. Естественным и единственно
возможным применением ливского языка
нередко считают лишь пение народных и
хоровых песен, а попросить по‑ливски
прикурить – это чуть ли не святотатство.
Новый
способ существования культуры в период
кризиса
В
составленном на основе трех докладов 1‑й
этнофуту-конференции (1994) “манифесте
этнофутуризма” (авторы Каукси Юлле, Свен
Кивисильдник, Андрес Хейнапуу и Маарья
Лыхмус – см. Лыхмус и др., 1995: 11) сказано, что
“этнофутуризм есть не идеология, а образ
мышления и модус
вивенди”. Этнофутуристическое мышление
нацелено на освоение элементов чужой
материальной культуры с интегрированием их
в свою собственную модель культуры и
мировосприятия. Такое мышление часто
рождается в культурах, находящихся в
кризисе, в периоды общественных или
культурных переломов либо резких перемен,
когда возникает угроза с заимствованием
чужой материальной культуры перенять и
чужую духовную культуру – и тогда
преемственность своей культуры может
оказаться в опасности.
Как
хрестоматийный пример чрезмерного
перенятия чужой духовной культуры, который,
по их мнению, нанес ущерб нашей
национальной самобытности, эстонские
этнофутуристы приводят онемечивание в
середине XIX века, в период эстонского
национального возрождения, коренных
жителей Эстонской и Ливонской губерний – в
языковом отношении не ассимилировавшись,
они тем не менее целиком переняли систему и
нормы доминантной немецкой культуры (см.
Эллер, 1972). Так, в своем докладе “Этнофутуризм
как образ жизни” Каукси Юлле ищет пути
дальнейшего развития традиционной
эстонской культуры в современном обществе (Каукси,
1999c). Приведем высказывание Кайдо Кама: “Ясно,
что мы не можем носить постолы, не можем
залезть обратно на дерево и так далее.
Австралийские аборигены ходят в океан на
лодках, у которых на корме два мощнейших
мотора «Johnson». А вот
рыболовецкие снасти у них допотопные. В
данных природных условиях, в данном море,
для данной рыбы тысячелетний опыт работает
лучше, чем какая угодно пластмасса и нейлон.
Естественно, современной цивилизации есть
что полезного предложить нам. Но надо
находить оптимальное соотношение.
Совершенно нормально, что в будущем в
каждом эстонском доме будет персональный
компьютер. Но никто не заставит меня
поверить, будто для строительства стен
домов в Эстонии лучше подойдет какой-либо
другой материал, чем сосновые бревна”. (Кама,
1989).
Этнофутуризм
в таком его значении можно связать с
условиями культурного шока. На это указывает
проведенное Анзорием Баркалая (2000)
исследование молодого поколения хантов,
живущих по берегам реки Пим. Воздействие на
местную хантскую культуру перемен,
принесенных начатой в 1970‑е годы
разработкой нефтяных месторождений на
землях хантов вдоль р. Пим на территории
нынешнего Сургутского района (мощное
вторжение русской материальной и духовной
культуры с ее направленной на экспансию
логикой развития, создание городов и других
центров русской культуры), Баркалая
расценивает как культурный шок – который,
по мнению большинства исследователей,
привел культуру местных хантов на грань
гибели. Баркалая возлагает надежду на рост
нового поколения хантов, умеющих лучше
адаптироваться и не знавших на личном опыте
той культуры хантов, которая
предшествовала культурному шоку, – для них
естественной средой будет уже новая,
изменившаяся и “испорченная” окружающая
среда. Таким образом, самыми уязвимыми для
культурного шока оказываются два старших
поколения, а с подрастанием нового
поколения культура приспосабливается к
новым условиям, заимствует элементы чужой
культуры (Баркалая приводит в пример детей
хантов, играющих в нефтяные разработки) и
ассимилирует их в культуру, унаследованную
от своих предков. Баркалая указывает на
изменения, происходящие в культуре хантов:
она приспосабливается к чуждому ей
русскому культурному окружению, новое
поколение уже умеет адаптировать чужую
материальную культуру к своей традиционной
духовной культуре, обеспечивая ее
преемственность. Жесткое разделение на
свое и чужое, свойственное старшему
поколению, уходит в прошлое, становясь
заботой этнографов.
Как
пример этнофутуризма в условиях
культурного шока можно привести стремление
малых финно-угорских народов создавать при
необходимости свою самобытную городскую
культуру в противовес чужой; это явление
отметили Рейн Таагепера, Андрес Хейнапуу, а
также финский исследователь Кари Салламаа (Салламаа,
1999).
Кайдо Кама, побывавший во
время кругосветного путешествия на
островах южных морей, поделился своими
мыслями с участниками IV конференции по
этнофутуризму летом 2001 г.: если жителям
Вануату после модернизации удалось
частично вернуться к своим традициям
именно благодаря этнофутуристской по
характеру “kastom-кампании”
по возрождению обычаев, то в Папуа-Новой
Гвинее, где традиционные культура и уклад
жизни сохранились, потребности в этом нет.
В
самой же эстонской культуре понятие
этнофутуризма ныне стало расплывчатым –
может быть, потому, что, по мнению
большинства эстонцев, нам уже удалось
преодолеть кризис. Но для тех, кто хотят
продолжать традиционную эстонскую
культуру, прерванную в период “культурного
самоубийства” (термин Рейна Таагепера) в
середине XIX века, кризис еще не миновал. Для
них этнофутуризм по-прежнему актуален. Тем
не менее надо признать, что в эстонской
культуре усилия в этом направлении
относительно периферийны, хотя у молодого
поколения (например, среди публики
фестиваля “Viljandi Folk”) и можно отметить
восприимчивость к этнофутуристскому
направлению. У финно-угорских народов-меньшинств
кризис, однако, продолжается, да и вообще
неизвестно ни одного финно-угорского
меньшинства, которому бы дали спокойно
развивать свои традиции – так, как смогли
жить более ста народов Папуа-Новой Гвинеи.
Поэтому можно надеяться, что именно у финно-угорских
малых народов есть уникальная возможность
преодолеть постмодернизм через этнофуту.
«
back